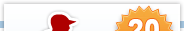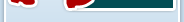Отзывы о Румынии
Дикий Запад Восточной Европы. Часть 2. by Андрей Васильев, (28.04.2004)
Замок в Ришнове стоит на высоком холме, на который приходится карабкаться по разбитым ступенькам, что начинаются за местным домом культуры. Потом я узнал, что путешественники на колесах и бусы с туристами подъезжают прямо к входу, но с противоположной стороны холма. Внутри замка есть пара неинтересных музейчиков, ресторан, какие-то телеги сразу за входными воротами, колодец (глубиной полторы сотни метров!) и множество прочих построек. На самой высокой точке холма около смотровой площадки стоит небольшой деревянный медведь, больше похожий на черного зубастого поросенка, и смотрит с обрывчика куда-то вдаль. Замок слегка разваливается, зато смотрится по-настоящему древним и, со стороны, интереснее, чем вылизанный и выкрашенный Бран – здесь я охотно соглашусь с LP.
Ришновский замок совсем небольшой, так что часа-полутора более чем достаточно на детальный осмотр всех его стен, башен и бастионов. На автостраду я пошел по дальнему пути – по асфальтовой дороге, и пути там было примерно два километра. На дороге я начал, было, стопить машину в Брашов, но первым, кто остановился, был… Габриель, хозяин квартирки, вместе со всеми тремя итальянцами! Они ездили на экскурсию в Карпаты, к массиву Фагараш.
Брашов, Сигишоара. 14 июля
Поздним утром меня разбудили итальянцы, которые почему-то решили, что мне надо ехать в Сигишоару на том же поезде, на котором они поедут в Будапешт. Сначала я хотел наорать на них, что нехорошо будить человека в такую мерзкую погоду (а она была совсем мерзкая!), но они предупредили мой праведный гнев сообщением, что Габриель вызвался довезти всех нас до вокзала. В купе к нам подсел знакомый мне швед (три дня назад он ехал из Тимишоары в соседнем купе), которого сюда, как выяснилось, подселил все тот же вездесущий Габриель. На общение никого не тянуло, так что все погрузились в чтение, а я просто заснул. Когда все-таки пришлось вылезать из теплого и уютного вагона Intercity, дождь вроде немного стих. Жизнь налаживается!
Весь средневековый город находится за стенами стоящей на холме средневековой крепости. Когда я увидел все это нагромождение черепичных крыш, крепостных укреплений, бастионов, дворец и огромную 65-метровую башню с часами и фигурками Мира, Правосудия, Закона и семью символическими днями недели, жизнь наладилась окончательно. Совершенно фантастически выглядит яркая разноцветная черепичная крыша башни, высокий шпиль-игла, четыре небольших башенки по углам массивного четырехугольного основания – все это смотрится примерно как аналогичные башни на подмосковных коттеджах, но почему-то совсем не пОшло – никакого новодела! Да и вся крепость в целом порадовала своей древностью, поросшими мхом и виноградом стенами и, вместе с тем, чистотой и опрятностью.
Пока я лазил на башню (в нагрузку к которой дают неплохой музейчик) и осматривал часовой механизм на ней, снова начался ливень, загнавший меня в симпатичное заведение с несколькими залами, тормозными официантами и вкуснющим кофе и пирожными за какие-то копейки.
Окна кафешки выходили на самый знаменитый во всей Румынии дом. Здесь в 1431 году появился на свет самый омерзительный из всех упырей и самый гнусный из всех вурдалаков принц Валахии Влад Цепеш, прозванный Дракулой, то есть чертом или дьяволом. В те времена Румыния из последних сил билась с Оттоманской империей, пытаясь сохранить свою независимость. В общем-то, у Цепеша это получалось значительно лучше, чем у его предшественников и последователей, так что недостатка в пленных турках Валахия не испытывала. Обычные в то время способы казни быстро наскучили молодому правителю: отрубание головы было хоть и красочным, но уж слишком кратковременным мероприятием; закапывание в землю живьем вообще лишало зрителей зрелища. Подробно изучив всю имевшуюся в то время литературу по этому важному вопросу (а ее в те темные века было немало), Дракула сумел превратить каждую казнь в своего рода шоу, многочасовое театральное представление, в котором актер был обречен. Больше всего Дракула любил сажать турок на кол, причем он всячески разнообразил это скучное занятие: он "протыкал пупки, сажал на кол по диагонали и по несколько человек одного за другим".
Впрочем, ему не были чужды и принципы своеобразного гуманизма: сажая своих врагов на кол, он следил, чтобы им не повредили никакие жизненно важные органы. Таким образом, одна и та же жертва могла радовать монарха своими стонами не только перед завтраком, но и во время ужина, а некоторые отбрасывали коньки и вовсе через два-три дня.
Ирландец Брэм Стокер в конце позапрошлого века в романе Dracula тщательно переработал образ очаровательного правителя и превратил его в настоящего супергероя, сделав вампиром и наделив, таким образом, бессмертием. Сейчас румыны почитают графа Дракулу за национального героя, причем не столько за его беспощадную войну с турками за сохранение румынской независимости, сколько за его исключительный вклад в становление и развитие туристической отрасли страны.
В наши дни в доме Влада Цепеша находится довольно средний, но все-таки популярный среди туристов ресторан. Говорят, что рубленое мясо, стейк с кровью и жареные потроха пользуются бешеным спросом.
Еще одной достопримечательностью Сигишоары все путеводители называют крытую лестницу из 172 ступенек, ведущую на Южный холм, где стоит очередная готическая церковь средней интересности. На входе храма сидели какие-то мужики в спецовках и пили пиво. Я попытался обойти их и забраться в церковь (спрятаться от дождя), но они замахали на меня руками и заорали ‘не смотреть – окрашено!!!’ Ну, думаю пускай сами со своим пивом и молятся своей богоматери… И потопал на германское кладбище, где бродил минут двадцать в полном одиночестве (если не считать витавших меж листвы тысяч душ невинно убиенных трансильванским вампиром), пока не был замечен все тем же шведом из Брашова, вылезшим откуда-то из-за надгробия.
Все эти байки про разную местную нечисть и мрачный антураж средневекового города ничуть не лишили меня аппетита, как и моего северного знакомого, поэтому мы спустились поближе к часовой башне, чтобы найти какую-нибудь недорогую едальню. Непонятно как, но швед умудрился где-то потеряться на абсолютно прямой двухсотметровой улочке. Так что я один перекусил где-то под городской стеной и под дождем двинул обратно к вокзалу. В поезде я даже немного загрустил из-за погоды, но потом здраво рассудил, что это первый дождливый день за весь мой уже почти трехнедельный трип – и возрадовался. В Брашове тоже делать было уже нечего, поэтому я заглянул в несколько местных злачных заведений, скачал почту и побрел домой.
Брашов, Синая. 15 июля
Выспавшись вволю и упаковав свой рюкзак (раздувшийся аж до 11 килограммов), я выдвинулся на поезде в сторону горного массива Бучеджи. В купе со мной ехал очень колоритный персонаж – настоящий профессор Брашовского университета. Самое интересное, что он много лет подряд преподавал русский на кафедре иностранных языков, так что за время переезда я добровольно прослушал уникальную бесплатную лекцию на русском языке по истории румынской культуры и государственности и записал великолепный конспект-путеводитель по ‘неизвестной Румынии’. Как я и предполагал, главной румынской аттракцией профессор считает монастыри Южной Буковины, в которых росписью редчайшей красоты покрыт каждый квадратный сантиметр стен храмов, причем как внутри, так и снаружи! – и я обязательно хочу туда съездить, но только в другой раз. Пока же мой путь лежал в популярный горнолыжный курорт Синаю. У этого небольшого городка, выросшего около Синайского монастыря, исторически сложились великолепный отношения с румынской властью: когда Карол I построил здесь роскошный дворец и объявил его своей летней резиденцией, то Синая в момент из ‘сонной деревни’ стала "жемчужиной Карпат". В эпоху Чаушеску Синая была клоном Барвихи для румынских партийных функционеров.
На вокзале, как обычно, нашел мужичков с комнатой и поехал ее смотреть. На этот раз мне не повезло: эти черти увезли меня на самую окраину города, комната была грязной и душной, хозяева выглядели подозрительными, а самое главное – пытались меня нагло обмануть, ткнув пальцем в самый центр города, когда я попросил показать их улицу на карте. Вырвавшись из их цепких лап, я решил уйти в горы – там и цены меньше, и люди добрее!
Кабана Bradet (туда я доехал на такси) была выше всяких похвал! Великолепное расположение прямо в лесу на высоте 1300 метров в десяти минутах от фуникулера, аккуратная комната, забавный и не проявляющий признаков англоговорения хозяин, приятные буржуи-постояльцы и насыщенный хвойный воздух – все было намного круче, чем там, внизу! Зато внизу есть замок Пелеш, Синайский монастырь и пункт обмена валюты.
Монастырь оказался симпатичным, но не более того. Но королевский замок… Он восхитителен! Бывают такие вещи, описывать которые не имеет абсолютно никакого смысла, так как любое описание превратится или в набор фактов из путеводителя, или, еще хуже, в пестрящей междометиями и восклицательными знаками восторженный бред. Поэтому я не буду рассказывать обо всех залах, покрытых тончайшей резьбой по десятку сортов дерева, парках и сокровищах Пелеша. Это просто №1 среди всякой всячины, созданной руками человека на территории Румынии. Номер один среди нерукотворных творений – точно напротив замка. Это Карпаты.
Синая, Буштени, Карпаты (Бучеджи). 16 июля
Хотя горы в районе ‘жемчужины Карпат’ очень симпатичные, но все-таки городок Буштени в десяти километрах от Синаи и кабана Бабеле, к которой можно подняться на фуникулере, позиционируются как лучшая база для треккинга всего массива Бучеджи. Так что вниз я спустился на первой же утренней ‘телекабине’, и уже через час поднимался обратно, но уже в Буштени. Здесь еще раз встретил того же странного шведа, который, в отличие от меня, поселился внизу.
В кабане Бабеле (что означает, понятное дело, ‘Бабы’ – забавные такие каменные столбы прямо перед кабаной) я заплатил за койку в дормиторе, бросил около одной из кроватей свой рюкзак и сразу же пошел смотреть Горы! погода была не очень: около кабaны, на высоте 2200 метров, облаков еще не было, зато соседний холм, а это всего на сто метров выше, был постоянно закрыт довольно мрачными тучками. Так как совершать подвиги и идти далеко в киселе мне не хотелось, я выбрал для начала самый близкий трек – до величественного металлического креста, посвященного первой мировой войне. Сорок минут я шел на границе облачности, так что проплывающие тучки цепляли меня за макушку, но никогда полностью не закрывали обзор. И лишь когда я уже должен был быть близко к цели, погода полностью скрыла от меня красоту окружающих пейзажей.
Сколько я ни вглядывался в несущиеся мимо ватные ошметки облаков, ничего похожего на памятник я не видел. Явление креста народу прошло в лучших традициях голливудских ужастиков: сначала на полсекунды сквозь облака прорезается небольшой кусок гигантского монумента, дабы сконцентрировать внимание наблюдателя; затем следует долгое томительное ожидание, сопровождаемое тревожным и надрывным завыванием ветров; и наконец, как по невидимому сигналу, туманный занавес поднимается, высвобождая из ватных объятий облаков сначала крест, а потом и весь холм под крестом. Еще мгновение – и тонкий солнечный луч словно прожектор заливает сцену яркими красками. Картинка блестит и с огромной скоростью куда-то мчится – потому что мчатся тонкие белые прожилки облаков на фоне черной-черной, закрытой сплошной пеленой дождевых туч долины. Пять секунд я неподвижно стою, завороженный зрелищем; опомнившись, еще три секунда трачу на включение фотоаппарата и переключение в автоматический режим, еще две секунды – наводка… Щелк! Оторвавшись от видоискателя, я лишь успеваю увидеть, как все это великолепие вновь растворяется в тумане…
Около креста в очередной (и в последний) раз нашел своего шведа, сделал несколько фотографий и, сидя в полутора километрах над городком Буштени, хорошенько изучил карту горного массива. Из-за погоды нельзя было даже думать о переходе к замку Дракулы в Бране, так что приходилось выбирать чуть менее амбициозный, но все-таки достойный маршрут. Решение очевидно: высочайшая вершина всего массива Бучеджи – Omu – находится в каких-то двух часах от креста, и потом понадобится еще столько же, чтобы вернуться обратно в Бабеле.
Вообще в румынских Карпатах все основные треки хорошо отмечены на местности или нарисованными на камнях знаками, или специальными столбиками, торчащими из земли каждые 20-30 метров. От старости краска с многих знаков полностью облупилась, и на пересечениях треков часто приходится долго соображать, куда идет каждая из троп. Но благодаря этим столбикам потеряться в горах практически невозможно. Это мне так казалось до тех пор, пока вдоль тропы не начали попадаться небольшие каменные или железные кресты с выгравированными именами и датами… А погода, тем временем, становилась все хуже: свирепый ветер вырывал из рук карту при любой попытке уточнить маршрут, тучи все темнели, а вся моя одежда пропиталась сыростью (хотя дождь так ни разу не начался). Теперь я уже шел в сплошных беспросветных облаках, и видимость упала почти до нуля. Два раза я сбивался с пути, и, не найдя через несколько минут очередного столбика, возвращался назад. Чтобы не потеряться, я стал делать десятиминутные остановки в тех случаях, когда туман становился слишком густым. Так или иначе, за три часа я вышел к кабане Ому. За километр до нее я нагнал большую и очень приятную румынскую семью, сообщившую мне много интересного о Карпатах и о жизни в Румынии вообще. В кабане меня напоили обжигающим чаем с травами и даже нашли попутчиков на обратный путь до Бабеле – примерно такую же семью. Кстати, кабана была под завязку забита иностранцами, что со своими огромными рюкзаками носятся по горам, как те бизоны по прериям.
Обратно возвращаться было намного интереснее, потому что слой облаков стал чуть менее плотным и иногда появлялись случайные просветы метров на триста. Мои попутчики повели меня по новому маршруту, немного короче и сложнее обычного: в двух местах приходилось довольно долго перебираться через завалы на тропе. Классная это штука – прыгать с камня на камень на узкой полоске земли, зажатой между вертикальной гранитной стеной высотой в полторы сотни метров и фантастическим белым океаном без линии горизонта с другой стороны!
Андрей Васильев